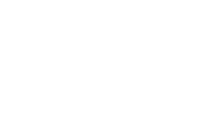Строительство аэродрома для мощных лайнеров зависело от решения принципиальной проблемы — статуса Нефтеюганска. Планировался он как город-спутник Сургута (но так и не стал им). В документах это объяснялось так: «Сейчас в городе проживает более половины строителей. В течение пяти лет они закончат строительство города и уедут. Освободившуюся площадь займут нефтяники. И этой численности хватит на все виды работ, которые должны будут выполняться в городе».
Из этого вытекало, что не нужны ни аэропорт, ни речпорт (строители и нефтяники вынуждены были создавать свои речные экспедиции и базы флота), ни железная дорога (она прошла в 30 км от Нефтеюганска). Не собирались развивать и собственную базу стройиндустрии, мол, всем этим нас обеспечит Сургут. Позднее Нефтеюганск вынужден был нанимать строителей из разных городов, чтобы ускорить социально-бытовое строительство в городе. Не входила в планы и ливневая канализация: считали, что на такой маленький городишко хватит обычной наземной.
В результате принятия дикого решения о работе вахтовым методом, населению поселков пришлось перенести множество невзгод, потерь времени и здоровья, разводов и детской безнадзорности, хулиганства.
Нефтеюганск начался с поселка геологоразведчиков Усть-Балык, позаимствовавшего свое название у рыбацкой деревушки.
Железные и деревянные вагончики, кунги (автомобильные кузова), землянки, насыпушки и даже палатки были первыми жилищами первопроходцев. Потом стали появляться разнотипные дома, построенные по своему усмотрению.
Сборные щитовые дома в лесной район везли со всех краев страны за тысячи километров, по реке. Первые каменные дома получились неудобными в плане жилья и мрачными снаружи. Но это было лучше, чем зимовать в землянках или кунгах.
В 1963 году в Усть-Балык прибыли изыскатели. Проводя геологические работы, они внесли предложение о строительстве города на острове, расположенном на правом берегу реки, ниже по течению от точки впадения Балыка в Обь. Проектировщики Башнефтепроекта разработали генплан развития города на 18 тысяч человек, хотя проживало больше. Однако позже выводы о размещении города на Усть-Балыкском острове, на нефтяной площади, расположенной близко от Сургута, были признаны поспешными. Вместе с тем план облисполкома был принят и утвержден.
Город, получив «благословение» партийного начальства, начал застраиваться деревянными, а затем каменными домами. Появились первые так называемые объекты соцкультбыта. Но со снабжением долгое время было плохо. Не хватало молока, овощей и фруктов, зато в изобилии были сгущенка, тушенка и всевозможные импортные вина.
В 1964 году школа переехала в новое типовое здание, ставшее вскоре центром культуры, а старое отдали под детсад «Березка». Мест в нем всем детям не хватало, но они находили себе занятия по интересам. Летом плавали на плотах, ходили на «растворный» — так называлось место, где хранили соль, которую после отработки заливали в скважину.
Некоторые первопроходцы брали детей с собой на работу. Как, например, мама Галины Приемченко, работавшая в столовой. В ее подсобке у Гали было много друзей — мышей, шмыгавших по коробкам. Девочка таскала их за хвосты и не раз была укушена грызунами.
В 1965 году около 200 учащихся не посещали школу из-за отсутствия мест, хотя занятия шли в три смены и за каждой партой сидели по три ученика. Как трудно было работать в то время и как много детей хоронили оттого, что тонули они в болотах без присмотра родителей или умирали от менингита.
Болели часто. Воспалением легких, ревматизмом, гнойничковыми, инфекционными заболеваниями. И рассчитывать на вовремя оказанную медицинскую помощь было нельзя. Из-за отсутствия дорог весной и осенью даже автомобили высокой проходимости не могли пройти. Была лишь одна бетонная дорога от пирса строителей и примерно до нынешнего автовокзала.
Несмотря на бытовые трудности, люди много читали, выписывали газеты и журналы. А по вечерам ходили на фильмы в клубы «Геолог» и «Буровик», а позже в «Строитель». Вокруг города было много факелов. К одному из них, на месте горбольницы, часто собиралась молодежь: пели песни под гитару, в летнее время купались на Акопасе. Факелы потушили к концу 1970 года, а протоку Акопас засыпали песком и построили на этом месте 8А и 12 микрорайоны.
Баня появилась только в 1965 году. Под Новый, 1968-й, год в 6 микрорайоне сдавали двухэтажку, где хотели разместить какую-то контору. Директор КБО Галина Ивановна Макарова темной ночью втащила через окна оборудование для мастерских и парикмахерской, расставила все, а утром явилась в исполком доложить о содеянном. Так в городе появился первый Дом быта. Вскоре его коллектив стал победителем областного соцсоревнования благодаря все той же Макаровой.
В 1968-м впервые был разработан проект озеленения города в связи с необходимостью улучшения условий проживающих. Дабы остановить отток людей (до 70% прибывающих) из-за нехватки жилья, неудовлетворительной зарплаты, культурно-бытовых условий и снабжения.
Те, кто оставался, самоотверженно трудились. Все одинаково переживали трудности: 50-градусные морозы, бездорожье, отсутствие уюта. Боролись за первые места в соцсоревновании за переходящее Красное знамя, думая прежде о Родине, а потом о себе. А помогала им в этом огромная вера в себя и в лучшее будущее.