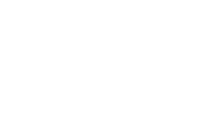Всего в Югру в годы сталинских репрессий было сослано порядка 200 тысяч человек, около тысячи из них были расстреляны. Места захоронений репрессированных в Ханты-Мансийске известны, их два. В Долине ручьёв есть большой круг, где трава не растёт совсем. Люди говорят, что там находится братская могила расстрелянных в период политических репрессий…
Духовный подвиг
«Сейчас звучат различные точки зрения на трагические события нашей недавней истории. Иногда высказывается мнение, что, мол, не стоит ворошить прошлое, необходимо смотреть вперёд. Но ведь сила общества заключается в способности различать добро и зло, пусть и по прошествии времени. Но это невозможно сделать без честной оценки нашей истории и тех, кто эту историю осуществлял своими судьбами. Возможно, и судьба нашей страны будет зависеть от того, станет ли духовный подвиг гонимых праведников нашим жизненным достоянием» — так написал в предисловии к книге «Вера в опале» ныне почивший кандидат философских наук протоиерей Алексий Сидоренко.
Автор книги, рассказывающей о новомучениках, которые отбывали ссылку на территории Югры, — наша землячка, югорская журналистка Светлана Поливанова. Забегая вперёд, скажу, что исследовательской работе о гонениях на Русскую православную церковь (на территории Сибири) в 1930-е годы она посвятила более 10 лет, работая в Государственном архиве Тобольска, архивах ФСБ Тюменской области, буквально по крупицам собирая истории новомучеников, пострадавших за Церковь и Веру Христову.
Трудность заключалась в том, что мало было живых свидетелей того времени и тех исторических процессов. И всё же такие люди стали появляться. Завоевать их доверие оказалось непросто. Слишком большой болью отзывается в них прошлое. В их повествовании сухие факты обросли человеческими эмоциями и переживаниями, а картина минувших дней предстала через судьбы многих тысяч людей, подвергшихся гонениям за свои убеждения…
Перелистаем страницы книги «Вера в опале».
«Я выросла в Ханты-Мансийске, в районе, который называется Перековка, и никогда не знала, что это было место, где селились ссыльные, репрессированные, потому что об этом никто не говорил, это умалчивалось по понятным причинам… — вспоминала она. — Постепенно открывалось то, что долгие годы не предавалось огласке… Потом на заднем дворе старого здания УВД был установлен памятный крест в память о расстрелянных. Пять тысяч останков погребено в этой братской могиле. Старожилы рассказывали, что останки людей находили на обочине дороги улицы Гагарина, связывающей историческую часть города (Самарово) и вновь построенный в 30-е годы Остяко-Вогульск. Говорят, что эту дорогу строили репрессированные. Никто и не заботился о том, в каких условиях работали спецпереселенцы. Одно слово — «враги народа».
Работая в архиве ФСБ по Тюменской области, Светлана Валерьевна познакомилась с делом 13-ти жителей села Реполово Ханты-Мансийского района, которых обвинили в контрреволюционной деятельности только за то, что они требовали открытия церкви. И подобных историй было немало.
Крестьянство было самой верующей частью дореволюционного общества. Вот почему антирелигиозная пропаганда усиленно велась именно в деревне, но порой давала очень скудные плоды. Духовенство продолжало пользоваться поддержкой местного населения, и репрессии не останавливались. Храмы закрывали и в них размещали раскулаченных спецпереселенцев, которые могучим потоком хлынули в 1929-1932 гг. из Центральной России в Сибирь.
А ещё храмы приспосабливались под клубы, сельсоветы, склады. Власть не останавливалась ни перед чем, лишь бы выжечь калёным железом репрессий и гонений веру из сердец русских людей. Но народ оставался твёрдым в исповедании веры. Результаты всенародной переписи, проведённой в 1937 году, стали ошеломляющими для власти: две трети сельского населения и треть городского назвали себя верующими. Начались новые гонения на Церковь и её служителей.
Стань сам храмом
Говорят, что кровью мучеников прошлого столетия до сих пор жива Россия. Сколько таких светильников веры освещали отдалённые от духовных центров уголки нашей Родины в годы гонений на Русскую православную церковь! Один из них — епископ Волоколамский, викарий Московской епархии Герман (Ряшенцев) — находился в ссылке в с. Самарово с сентября 1923 года по 1924-й, затем в д. Чучелинские юрты Тобольского округа. С 1929-го по 1931-й находился в Соловецком лагере. Расстрелян 15 сентября 1937 года.
Невозможно без волнения читать строки его напутствия близким: «Стало меньше храмов — сам будь, и ты должен быть храмом Бога; стал неудобен вход ко многим святыням — сам стань этой святыней».
Священник храма Покрова Пресвятой Богородицы в Самарово Евфимий Оболтин на вопрос крестьянина, долго ли он ещё будет служить, ответил: «Буду служить, пока не арестуют». Уважаемый, достойный человек старался жить по заповедям Божиим, быть верным слову, дорожил семьёй и больше всего — своей честью. Расстрелян в том же 1937 году.
Расстреляны за якобы «контрреволюционную деятельность» и 23 священника, выступившие против закрытия храмов.
Погиб от рук палачей и мученик Феодор Тобольский. С детства он страдал параличом ног и прожил большую часть жизни прикованным к постели. Он был весь смирение и кротость, любовь и сострадание. Его родные помогали страждущим ссыльным; бывали в их доме сосланный настоятель Марфо-Мариинской обители о. Митрофан (Серебрянский) и о. Георгий (Скрипка).
Феодор вёл также обширную переписку с монахами и священниками. Около 250 писем он писал ежедневно. За утешением и помощью спешили к нему и миряне. Феодор знал, что советская власть, мучимая злобой на всё, что касалось православия, не оставит его в живых, и поэтому спешил утешить, посоветовать, поддержать. Его забрали в один из осенних дней 1937 года. Он знал, как закончится его жизнь, и на прощание сказал: «Не плачьте обо мне и могилы моей не ищите!»
…Последний священник, служивший в 30-е годы на территории современной Югры, — Александр Тоболкин. Север даже в нынешние цивилизованные времена принимает не всех. Он всегда был некой проверкой на прочность, а уж в те годы священник должен был уметь заниматься рыбалкой, охотой, выживать в суровых природных условиях. Он отлично понимал, что священства новая власть ему не простит. Служить Богу в те годы означало осознанно брать крест страданий, гонений и даже смерти. А.А. Тоболкин от веры не отрёкся и погиб.
В Сургут за «контрреволюционную деятельность» был сослан священник Илия Громогласов. Профессор МГУ, магистр богословия, знаток истории церковного права, крупнейший специалист в области сектоведения и русского раскола. Человек деятельный и энергичный, он в разное время входил в целый ряд научных обществ: Педагогическое, Императорское, Археологическое, Русское, Библиографическое (все при Московском университете), Археологическое (при Историческом музее). Расстрелян 4 декабря 1937 года.
В Сургуте, а затем в с. Сытомино Сургутского района томился в ссылке и профессор Иван Попов, член Собора Православной русской церкви, человек, близкий патриарху Тихону, один из умнейших людей своего времени. Расстрелян 8 февраля 1938 года.
Вместе с ним в Сытомино отбывал ссылку и будущий священномученик епископ Онуфрий (Гагалюк). Он остался верен пути, предопределённому ему Богом, до конца пройдя страшные испытания раскола в церкви, бесконечные ссылки и тюрьмы, унижения, побои, клевету, предательства. Епископ Онуфрий считал, что испытания эти посланы Богом «за неверие, богохульства и кощунства высших, за богоотступничество многих из бывших епископов и иереев — ныне обновленческих и иных раскольников, за равнодушие к святыням и маловерие многих считающих себя православными!..»
Незадолго до мученической кончины (расстрелян в 1938 году) писал: «Посылаются эти гонения для испытания нашей верности Богу. И за твёрдость ожидает нас венец жизни… Гонения — крест, возложенный на нас самим Богом».
30-е годы были самыми тяжёлыми для Русской православной церкви. На конец 30-х годов Русская православная церковь практически лишилась административного руководства. Можно было проехать сотни километров по России и не увидеть ни одного действующего храма. В 1938 году был закрыт последний действующий храм на территории современной Югры — в пос. Берёзово.
Но православие было живо. Оно вынуждено было скрываться, уходить в катакомбы, и горел в сердцах русских огонёк веры, который в годы Великой Отечественной войны поможет выстоять в самые лютые годины и водрузить Знамя Победы.
Живые свидетели
«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 9, 23) — так отвечает Господь Петру, который начинает уговаривать Спасителя не идти на страдания. Сотни, тысячи православных, согнувшись под тяжестью своего креста, шли на свою Голгофу в годы гонений, являя мужество, твёрдость веры и величайшее смирение перед лицом постигших их и Церковь испытаний.
«Работая в архивах и музеях… по крупицам собирая свидетельства того времени, незримо прикоснулась к забытой истории. Со страниц архивных дел со мной заговорили живые свидетели. И защитником истинности их слов выступила уже сама история. Я прожила часть той трудной жизни, вместе со всей страной. И поняла, что на многие вопросы жизни сегодняшней можно найти ответы в прошлом. И стала от того старше, потому что с позиции времени на многое смотришь по-другому» — эти строки невозможно читать без волнения.
И всё же книга оставляет светлое впечатление.
Да, минувшее столетие дало миру целый сонм новомучеников и исповедников российских, своей кровью искупивших наше безверие и наше отступничество. Память о них учит нас мужеству, верности, вере.
«В жертву за Россию был принесён её цвет. На крови мучеников за веру стоит сегодня стремительно развивающийся Ханты-Мансийский автономный округ. И мы должны это помнить и извлекать уроки из истории. Не должны быть забыты те, чьи жизни были принесены на алтарь православной веры, которая проросла сегодня в сердцах моих современников» — с этими словами Светланы Поливановой невозможно не согласиться.
Святые новомученики российские, молите Бога о нас!
Материал подготовила Валентина Хрусталёва